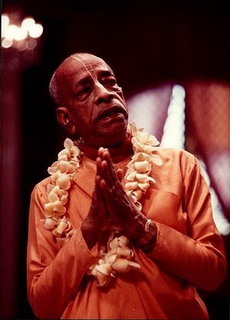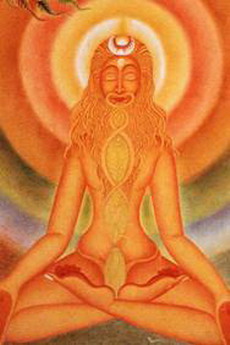Наверное, нет более увлекательного рассказа, чем история открытия и истолкования Индии западным сознанием. Я имею в виду не только географические, лингвистические и литературные открытия, экспедиции и раскопки — короче говоря, все то, что составляет фундамент европейской индологии, — но и разнообразные события в современной индийской культуре, на которые влияет растущее знакомство с индийскими языками, мифами и философией. Некоторые из этих событий были описаны Раймондом Швабом в его прекрасной книге «Восточный Ренессанс». Как бы то ни было, открытие Индии продолжается по сей день, и ничто не обязывает нас предполагать, будто конец его близок. Ибо анализ чуждой культуры обнаруживает главным образом то, что было в ней искомым, то, что ищущий был уже готов обнаружить. Открытие Индии может прекратиться только тогда, когда иссякнут творческие силы Запада. Когда неясны духовные ценности, вклад филологии, как бы ни был он значителен, не в состоянии исчерпать все богатство предмета. Конечно, попытки понять буддизм, до тех пор пока его произведения издавались небрежно и еще не окрепли различные филологические школы, были малоуспешными. Представление об этом глубоком, сложном духовном феномене не подкреплялось обладанием такого надежного подспорья, как критические издания источников, терминологические словари, исторические монографии и т. п. Когда исследователь приступает к изучению экзотического сознания, он прежде всего сталкивается с тем фактом, что на понимание им этого феномена влияет специфика его профессии, культурной ориентации, исторической эпохи, к которой он принадлежит. Этот трюизм имеет повсеместное распространение. Тот образ, который девятнадцатое столетие придумало для «низших обществ», в основном проистекает из позитивистских — т. е. из антирелигиозных, антиметафизических представлений, разделяемых рядом выдающихся исследователей и этнологов, подходивших к «дикарям» с идеологией современиков Канта, Дарвина или Спенсера. У «примитивных» народов они постоянно находили «фетишизм» и «религиозный инфантилизм» — просто потому, что не могли увидеть нечто иное. Только возрождение европейской метафизической мысли в начале нынешнего века, религиозный ренессанс, многочисленные новации в глубинной психологии, поэзии, микрофизике сделали возможным подлинное понимание духовного горизонта «дикарей», структуры их символов, значения мифов, зрелость мистицизма. В случае Индии трудностей оказалось даже больше. С одной стороны, необходимо было отточить филологические инструменты; с другой, в общем массиве индийской духовности приходилось отбирать такие ее аспекты, которые считались наиболее прозрачными для западного сознания. Впрочем, как и следовало ожидать, казавшееся самым понятным в действительности выражало заветные желания самой европейской культуры. Преимущественный интерес к компаративной индоарийской филологии вывел в середине девятнадцатого века вперед санскрит как предмет изучения — подобно тому как еще одно-два поколения назад философия идеализма да очарование древних сказаний, переоткрытых немецким романтизмом, подталкивали умы обращаться в сторону Индии. В течение второй половины столетия Индию — ив Европе, и в Америке — интерпретировали главным образом в терминах натуральной мифологии или культурного стиля. Наконец развитие социологии и культурной антропологии в первой четверти нашего века приоткрыло дальнейшие перспективы. Все эти эксперименты имели известную ценность, поскольку они пытались решить исконные проблемы европейской культуры. Различные способы подхода к предмету, использовавшиеся западными учеными при раскрытии подлинного значения индийского духа, пусть и не всегда достаточно успешные, все же сослужили свою службу. Малопомалу Индия начала утверждаться в сознании Запада. В течение весьма долгого времени это утверждение превосходно отражала сравнительная грамматика. Кроме того, пусть робко и неуверенно, но Индия появлялась и в книгах по истории философии, в которых, согласно господствовавшей на данный момент моде, ее интерпретировали то как разновидность немецкого идеализма, то как «дологическое мышление». А когда возрос интерес к социологии, стали часто, в резких тонах, критиковать кастовую систему. Все подобные оценки находят свое объяснение в рамках современной западной культуры. Когда же в стремлении решить спорные вопросы культуры начали все чаще опираться на лингвистический или социально-структурный анализ, Индию снова не обошли вниманием — ее привлекали и для уточнения той или иной этимологии, и для иллюстрации какой-нибудь ступени социальной эволюции — хотя по большому счету это было только знаком уважения. В принципе способы подхода к Индии не были плохи сами по себе; просто они являлись слишком специализированными, а значит, их возможности в раскрытии разнообразных содержаний сложнейшего духовного феномена оказывались очень ограниченными. К счастью, любой метод с течением времени устаревает; так, осознав ошибки и заблуждения своих предшественников, последующие поколения быстро научились не повторять их. Полезно осмыслить прогресс в изучении индоевропейской мифологии со времен Макса Мюллера, чтобы понять то преимущество, которого смог добиться Жорж Дюмезиль, причем не только в компаративной филологии, но и в социологии, истории религий и этнологии, преимущество, выразившееся в умении представить намного более точное и богатое отражение великих образцов индоевропейской мифологической мысли. Есть все основания полагать, что в наше время стало возможным более ясное познание индийского духа. Индия вовлечена в орбиту мирового исторического процесса, и западное сознание пусть с ошибками, но приходит к тому, чтобы серьезнее относиться к философии народа, занявшего свое место в истории. Кроме того, начиная с последнего поколения философов, запад все более склонен определять самого себя через отношение к проблемам времени и истории. Свыше столетия основная часть научных и философских усилий европейской мысли была посвящена истолкованию факторов, «обусловливающих» человеческое бытие. Показывали, как и до какой степени человек обусловлен своей наследственностью, социальной средой, культурными стереотипами, бессознательным — и прежде всего историей, т.е. своим положением в современности и своей личной историей. Это последнее открытие западной мысли — открытие того, что человек по своей сути есть существо, подверженное времени и истории, что он — тот и может быть только тем, кем сделала его история, доминирует в современной западной философии. Некоторые философские направления даже заключают отсюда, что единственная настоящая задача, поставленная перед человеком, состоит в принятии этой временности, этой историчности свободно и целиком, потому что любой другой выбор эквивалентен бегству в абстракции, в неподлинное, бегству, влекущему за собой не только выхолощенность, но и духовную смерть, безжалостно карающую за всякое предательство по отношению к истории. Не будем обсуждать здесь эти идеи. Отметим только, что проблемы, занимающие сегодня западные умы, готовят почву для более глубокого понимания индийского духа. В самом деле, эти проблемы побуждают использовать для своих философских решений тысячелетний опыт Индии. Напомним, что одним из объектов новейшей западной философии является человеческая обусловленность, и прежде всего временное бытие человека. Именно временность, темпоральность делает возможными все другие «условия», именно она превращает человека в «обусловленное» существо, в бесконечную, мимолетную череду условий. Но ведь эта проблема «обусловленности» (и естественно возникающий вывод из нее, на который недостаточно обращали внимание на Западе, — «разобусловленность») конституирует центральное место индийской мысли. Начиная со времени упанишад, Индия была поглощена выяснением сущности этой обусловленности. (Поэтому и возникла не лишенная смысла идея о том, что вся индийская философия — это, по сути, «экзистенциализм».) Западному миру еще предстоит внимательно изучить следующее: 1) что именно Индия считает многообразием «условий» бытия человека; 2) каким образом она подходит к вопросу о временности и историчности человека; 3) какой выход может быть найден из того состояния тревоги и отчаяния, которое с неизбежностью следует за осознанием временности — матрицы всякой обусловленности. Со строгостью, не известной нигде в мире, Индия обратилась к анализу различных измерений человеческой жизни. Понятно, это делалось не для того, чтобы прийти к точному, непротиворечивому знанию о человеке как таковому (как поступала, например, Европа девятнадцатого столетия, когда она полагала, что о человеке следует судить исходя из наследственных или социальных факторов), но с целью узнать, насколько далеко простираются границы обусловленности и существует ли что-нибудь за этими границами. Еще задолго до глубинной психологии индийские аскеты и святые стремились проникнуть в темные сферы бессознательного. Они обнаружили, что физиологические, социальные, культурные, религиозные факторы жизни человека сравнительно легко поддаются контролированию и, следовательно, овладению; однако этого нельзя сказать о деятельности бессознательного, которая создает наибольшие помехи в аскетической и созерцательной практике через свои санскары и васаны (букв. «пропитывание», «наследство», «скрытые силы») — они, собственно, и формируют то, что глубинная психология называет содержаниями и сущностью бессознательного. Ценно, впрочем, не столько прагматическое предвосхищение некоторых современных психологических техник, сколько использование знания о бессознательном для «разобусловливания» человека. Поэтому в Индии познание причин, влияющих на человеческую жизнь, не может являться самодостаточной целью; если исследуют содержания бессознательного, то лишь для того, чтобы «сжечь» их. Мы увидим, какие методы применяет йога с целью достижения своих поражающих воображение результатов. Именно эти результаты и привлекают особое внимание западных психологов и философов. Мы не хотели бы оказаться непонятыми. У нас нет намерения призывать западных ученых практиковать йогу (которая, кстати, далеко, не так проста, как полагают иные любители) или предлагать, чтобы на вооружение западными дисциплинами были приняты йогические методы или йогический взгляд на мир. Нам кажется более плодотворным другой подход — внимательнейшим образом изучить результаты, полученные в ходе таких способов обращения с психикой. Огромнейший, проверенный временем запас образцов человеческого опыта предлагает себя западным исследователям. Было бы по меньшей мере неразумно не воспользоваться таким преимуществом. Как уже говорилось выше, проблема обусловленности человека находится в сердцевине западного мышления; той же самой проблемой изначально занималась и индийская философия. Разумеется, здесь не найти терминов «история» и «историчность» в том значении, в каком они понимаются на Западе; редко встретим мы и понятие «темпоральность». Тем не менее важным является не буквальное совпадение философской терминологии, а соответствие основных вопросов разных традиций друг другу. Весьма долгое время считалось, что индийская мысль отводит значительное место понятию майи, которое в Европе переводили — и по вполне веским основаниям — как «морок», «мировая иллюзия», «мираж», «магия», «становление», «ирреальность» и т. п. Если же поглядеть более пристально, то можно заметить, что майя является иллюзией оттого, что она лишена бытия, оттого что она — «временность», «перемены», как в общемировом, так и в историческом масштабе. Из этого следует, что Индия осознавала связь между иллюзией, временностью и человеческим страданием. Хотя индийские святые выражали страдание человека преимущественно в космологических терминах, мы поймем, прочитав их произведения с тем вниманием, которого они заслуживают, что феномен этот мыслился именно как «становление», обусловленное темпоральными структурами. То, что современная философия называет «бытием расположенным», «бытием, конституируемым темпоральностью и историчностью», имеет свой аналог в индийской философии: это «существование в сетях майи». Если сопоставить два философских горизонта, индийский и западный, то все, о чем размышляла Индия в связи с проблематикой майи, окажется для нас очень современным. Это становится очевидно, когда мы читаем, например, «Бхагавадгиту». Ее анализ человеческого существования проводится на языке, с которым мы, несомненно, знакомы: майя — не только космическая иллюзия, но и, что более важно, историчность; не только жизнь в вечном мировом круговороте, но прежде всего любая жизнь во времени и истории. Для «Бхагавадгиты», равно как отчасти и для христианства, проблема стоит следующим образом: как разрешить парадоксальную, двойственную ситуацию, связанную с тем, что человек, с одной стороны, преднаходит себя «заброшенным» б историю и временность, а с другой, знает, что он будет «проклят», если позволит себе быть побежденным ими, знает, что он должен любой ценой найти уже в этом мире путь, выводящий на трансисторический, вневременной уровень. Решения, предложенные «Бхагавадгитой», будут обсуждены в дальнейшем. Здесь же мы хотим подчеркнуть, что все подобные решения представляют из себя модификации йогических приемов. Таким образом, мы опять встречаемся с йогой. Ибо реальность такова, что — и это относится к третьему вопросу, интересующему европейскую философию (вопросу о путях выхода из того состояния тревоги, которое порождается открытием нашей темпоральности и историчности, какие средства противодействия напору времени и истории, существуют в мире) — все ответы, предлагаемые индийской мыслью, в той или иной степени основаны на знании йоги. Отсюда очевидно, какое значение для западных ученых и философов имеет знакомство с этой проблематикой. Повторим, мы не ставим вопрос о безоговорочном, некритичном усвоении Европой одного из решений, выношенных Индией; ценность какого бы то ни было духовного феномена не постигается наподобие освоения новой марки автомобиля. Кроме того, это и не вопрос, имеющий отношение к философскому синкретизму или к «индианизапии», или, тем более, к отвратительному «духовному» гибриду, который был порожден теософским обществом и продолжает ныне свое существование в самых худших из бесчисленных полиморфозов современности. Вопрос более глубок: важно то, что мы знаем и понимаем мысль, которая сумела занять первостепенное место в истории общемировой духовности. Важно и то, что мы знаем ее теперь, именно в наше время, когда любой культурный провинциализм преодолевается самим ходом истории, мы — и европейцы, и неевропейцы — сталкиваемся с необходимостью мыслить в терминах всеобщей истории и ковать общечеловеческие духовные ценности. С другой стороны, именно теперь в философском сознании Европы доминирует проблематика человеческого бытия в мире — та самая проблематика, которая, напомним еще раз, является центральной и для индийского мышления. Возможно, что этот философский диалог будет осуществлен не без некоторых разочарований, особенно на первых порах. Ряд западных ученых и философов могут посчитать индийские трактовки достаточно упрощенными, а практические решения — малоэффективными. Любой специальный язык, выражающий определенную спиритуальную систему, является своего рода жаргоном; вполне вероятно, что европейские философы найдут «жаргон» индийской философии старомодным, неточным, громоздким. Однако все эти неприятности, которым может подвергнуться диалог двух миров, не так уж значимы. В конце концов непременно будет признано — поверх философского лексикона и несмотря на него — огромное значение индийской мысли. Невозможно, например, отрицать важность одного из существеннейших открытий Индии, а именно открытие того, что сознание может выступать в качестве «свидетеля», «наблюдателя», свободного от влияния психофизиологических факторов и темпоральной обусловленности. Это сознание «освобожденного человека», т. е. такого, который сумел выйти из потока времени и познал подлинную, невыразимую свободу. Завоевание этой абсолютной свободы, этой совершенной спонтанности — цель всех систем индийской философии и созерцательных практик. Но, как утверждает Индия, подобная цель может быть достигнута прежде всего с помощью йоги. Такова главная причина, по которой мы посчитали небесполезным написать сравнительно полное изложение теории и практики йоги, осветить историю ее форм и определить ее положение в индийской традиции. Мы приступили к написанию этой книги после трех лет обучения в Калькуттском университете (1928 — 1931) под руководством профессора Сурендраната Дасгупты, а также обогатившись опытом шестимесячного пребывания в ашрамах Ришикеша, что в Гималаях. Первая ее версия, написанная по-английски, переведенная самим автором на румынский язык, а оттуда ретранслированная уже на французский некоторыми друзьями, была опубликована в 1936 г. под заголовком «Йога. Эссе об истоках индийского мистицизма» (Yoga. Essai sur les origines de la mystique indienne). Содержание книги пострадало как от обычных для юности и неопытности промахов, так и от двойного перевода; кроме того, текст оказался испорчен большим количеством грамматических и типографских ошибок. Несмотря на эти несовершенства, работа была хорошо принята индологами; отзывы Луи де ла Валле Пуссена, Яна Пшылуского, Генриха Циммера, В. Папессо — если называть только, увы, уже усопших — давно вдохновили нас подготовить новое издание. Исправления и дополнения привели к появлению книги, значительно отличающейся от изданной в 1936 г. За исключением немногих глав, мы полностью переработали произведение, сообразовав его, насколько это оказалось возможным, с духом наших нынешних взглядов. (Часть этой новой версии была использована при издании в 1948 г. небольшой работы «Техники йоги» — Techniques du Yoga.) Мы старались написать работу, доступную и неспециалистам, не отходя, однако, от строгого научного анализа. Мы пользовались существующими переводами палийских и санскритских текстов (в том случае, когда их качество казалось нам высоким). Если же при переводе «Йогасутр» и комментариев к ним мы иногда отклоняемся от традиционных методов, то поступаем так исходя из устных наставлений наших индийских учителей, особенно С. Дасгупты, ректора университета, вместе с которым мы перевели и обсудили все важнейшие сочинения йога-даршаны. В своем нынешнем виде книга адресована в первую очередь историкам религий, психологам, философам. Основная ее часть посвящена описанию различных видов йогической техники, а также их истории. Существуют превосходные труды по системе Патанджали, особенно написанные Дасгуптой; поэтому мы не сочли необходимым обсуждать этот вопрос во всей полноте. То же самое касается и техник буддийской медитации — они достаточно широко освещаются в современной критической литературе. Вместо этого акцент ставился на менее изученные или неадекватно понятые аспекты: имеются в виду те идеи, символы и методы йоги, которые изложены в тантризме, алхимии, фольклоре и аборигенных культах Индии. Данная работа посвящена памяти нашего попечителя, махараджи Кассимбазара Маниндры Чандры Нанди, сделавшего возможным наше пребывание в Индии благодаря выделенной с его стороны стипендии, а также памяти наших самых лучших наставников: Нае Ионеску и Сурендраната Дасгупты. Урокам первого мы обязаны своим посвящением в философию и ориентацией в ней. Что же до С. Дасгупты, то он не только ввел нас в самую сердцевину индийской мысли, но и был в течение трех лет нашим преподавателем санскрита, нашим Учителем, нашим гуру. Мир памяти их!